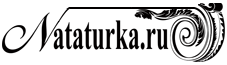Усадьба Введенское (Россия, Московская область, Одинцовский район, Введенское) близ железнодорожной станции Звенигород
Усадьба недоступна для посещений, на её территории расположен санаторий «Звенигород»
Жители этих краёв уже давно забыли о соседстве с замечательной «подмосковной». Все знают и привыкли к тому, что рядом разместился санаторий «Звенигород», куда вход почитателям русской усадьбы заказан. Кажется, что Введенское, обязано своим возникновением одному лишь только вдохновению архитектора Николая Александровича Львова, но и сама природа приложила здесь руку, создав трогательный по красоте пейзаж. Возвышенное плато, над долиной Москвы реки, где раскинулся архитектурный ансамбль, постепенно понижается к запруженной речке Нахабне.
Описание усадьбы Введенское
План усадьбы Введенское
- Главный дом
- Флигели
- Каретник
- Служба
- Церковь
- Парк
Ось симметрии комплекса начатая подъездной аллеей, переходящей в прямоугольный coor d’honneur (фр.), образованный главным домом с г-образными крыльями и двумя флигелями, продолжается до русла реки широкой просекой.
С высоты господского дома, открывается панорамный вид на заречные окрестности: живописно расположенный город, одинокую главу Успенского собора, и на комплекс Саввинского монастыря-крепости, окружённых бескрайним волнующимся морем сосновых лесов.
Ветви кедра — вышивки зеленым
темным плюшем, свежим и густым,
а за плюшем кедра, за балконом —
сад прозрачный, легкий, точно дым:
Яблони и сизые дорожки,
изумрудно-яркая трава,
на березах — серые середки
и ветвей плакучих кружева.
 Эти строки Ивана Бунина в обрамлении капителей коринфских колонн есть ни что иное как «Окно» Маши Якунчиковой.
Эти строки Ивана Бунина в обрамлении капителей коринфских колонн есть ни что иное как «Окно» Маши Якунчиковой.
Церкви с посвящением Введения Пресвятой Богородицы во Храм существовали здесь исстари. Возможно, самая первая из них деревянная, упоминается в 1504 году.
Через полтора века Введенское, Першино тож находится в распоряжении боярина И.А. Милославского. При следующем владельце М.П. Головине сельцо вырастает до села. Во второй половине XVIII века (1769 г.) вотчину приобретает обер-гофмаршал Н.М. Голицын, хозяин близлежащих Вязём. Но отстраивалось Введенское в самом конце XVIII столетия, когда Павел I преподнёс усадьбу своей фаворитке Екатерине Николаевне Лопухиной.
А.Н. Греч и М.А. Ильин совершенно точно приписывали авторство этого шедевра эрудированному Львову, но документально оно было подтверждено только в конце 1970-х гг. — Н.И. Никулиной, исследовавшей творчество прославленного зодчего.
Львов, много строивший в окрестностях Петербурга и на своей малой родине в Новоторжском уезде, успел кое-что создать и в Московии. Комплекс усадьбы Введенское, едва ли не единственно-уцелевшее во всём Подмосковье достоверное произведение архитектора, кроме Вороново, уничтоженного пожаром в 1812 году, и одного-двух предположений.
Дом-дворец, первоначально возведённый из дерева, в 1912 году последним владельцем имения перестраивается в кирпиче, с некоторым изменением пропорционального строя и декоративного оформления. И это не единственное изменение замысла Львова: открытые колоннады, соединявшие дом с боковыми крыльями, превращаются в застеклённые галереи; а в 1928 году над ними словно монолит вырастает второй этаж. Всё это в значительной степени снизило художественные достоинства дворца, лишившегося с просветами колоннад своей эфемерной легкости и слитности с окружающей природой.
Не смотря на утраты ансамбль Введенского оставляет неизгладимые впечатления, вот только насладится этой красотой может далеко не каждый…
Архивные материалы (фотографии, чертежи) усадьбы Введенское
 1. 1. |
 2. 2. |
 3. 3. |
 4. 4. |
 5. 5. |
 6. 6. |
 7. 7. |
 8. 8. |
- Дворец в усадьбе Введенское
- Вид на дворец со стороны парка
- Церковь в Введенском, иконостас
- Церковь в усадьбе Введенское
- Усадьба Введенское. План, фасад. Обмеры А.М. Харламовой, 1957
- Введенское. Фото А.А. Александрова, 1964
- Усадьба Введенское. Фото И.С. Кузнецова, 1920-е гг.
- Церковь в усадьбе Введенское. Фото А.М. Дианова, 1930-е гг.
Персоналии
Светлейший князь Петр Васильевич Лопухин
 Светлейший князь П.В. Лопухин, 1755—1827, сын майора Василия Алексеевича от брака его с Хоненевой, начал службу в 1769 г. прапорщиком в Преображенском полку; в 1775 г. был уже капитан — поручиком , а 25-и лет, 2 года спустя, полковником и «определен и статским делам», при чем в 1779 г. назначен С.-Петербургским обер-полицеймейстером. Заслужив расположение Императрицы, в чине бригадира, он был переведен в 1785 г. губернатором сначала в Тверь, а затем, пожалованный в генерал-майоры, назначен в 1784 г. губернатором в Москву, отсюда в 1795 г. перемещен генерал-губернатором в Ярославль, будучи уже генерал — поручиком. До сих пор, по словам современника, он «продолжал службу мерным шагом». Но со вступлением на престол Павла I «счастье улыбнулось» ему: «слепой случай — и второстепенный сановник сделался первым в государстве». Император влюбился в старшую дочь Лопухина, Анну, и почести и награды посыпались на отца, поощрявшего это увлечение. Пожалованный в тайные советники и сенаторы, в 1798 г. Лопухин был назначен генерал — прокурором ; 7 Ноября 1798 г. получил Андреевскую ленту, затем Анну 1-й ст. и Мальтшский орден большого креста с брильянтами, чин действ. тайного советника; 19 Января 1799 г. возведен в княжеское достоинство, 22 Февраля получил титул «светлости» и княжеский герб с девизом «Благодать». 11 Марта получил придворную ливрею и староство Корсунь, Невской губернии. Хитрый царедворец, зная причудливый нрав и переменчивость расположения Государя, не лелеял дольше искушать судьбу, и 7 июня 1799 г. испросил увольнение от всех дел, при чем памятью его генерал — прокурорства остался указ (19 Ноября 1798 г.) об освобождении от телесного наказания людей, имеющих более 70 лет . В царствование Александра I, в 1801 г., Лопухин был назначен членом Государственного Совета, затем в 1805 г. министром Юстиции, в 1810 г. председателем департамента, а с 25 Мая 1816 г. и до конца жизни состоял председателем Государственного Совета и Комитета Министров, при чем с 50 Августа 1814 г. состоял в I классе.
Светлейший князь П.В. Лопухин, 1755—1827, сын майора Василия Алексеевича от брака его с Хоненевой, начал службу в 1769 г. прапорщиком в Преображенском полку; в 1775 г. был уже капитан — поручиком , а 25-и лет, 2 года спустя, полковником и «определен и статским делам», при чем в 1779 г. назначен С.-Петербургским обер-полицеймейстером. Заслужив расположение Императрицы, в чине бригадира, он был переведен в 1785 г. губернатором сначала в Тверь, а затем, пожалованный в генерал-майоры, назначен в 1784 г. губернатором в Москву, отсюда в 1795 г. перемещен генерал-губернатором в Ярославль, будучи уже генерал — поручиком. До сих пор, по словам современника, он «продолжал службу мерным шагом». Но со вступлением на престол Павла I «счастье улыбнулось» ему: «слепой случай — и второстепенный сановник сделался первым в государстве». Император влюбился в старшую дочь Лопухина, Анну, и почести и награды посыпались на отца, поощрявшего это увлечение. Пожалованный в тайные советники и сенаторы, в 1798 г. Лопухин был назначен генерал — прокурором ; 7 Ноября 1798 г. получил Андреевскую ленту, затем Анну 1-й ст. и Мальтшский орден большого креста с брильянтами, чин действ. тайного советника; 19 Января 1799 г. возведен в княжеское достоинство, 22 Февраля получил титул «светлости» и княжеский герб с девизом «Благодать». 11 Марта получил придворную ливрею и староство Корсунь, Невской губернии. Хитрый царедворец, зная причудливый нрав и переменчивость расположения Государя, не лелеял дольше искушать судьбу, и 7 июня 1799 г. испросил увольнение от всех дел, при чем памятью его генерал — прокурорства остался указ (19 Ноября 1798 г.) об освобождении от телесного наказания людей, имеющих более 70 лет . В царствование Александра I, в 1801 г., Лопухин был назначен членом Государственного Совета, затем в 1805 г. министром Юстиции, в 1810 г. председателем департамента, а с 25 Мая 1816 г. и до конца жизни состоял председателем Государственного Совета и Комитета Министров, при чем с 50 Августа 1814 г. состоял в I классе.
Князь Лопухин скончался 6 Апреля 1827 г. и похоронен в родовом своем имении близ г. Порхова. Был женат на Прасковии Ивановне Левшиной, от которой имел 5 дочерей, а 2-м браком — на Екатерине Николаевне Шетневой (1 сын и 5 дочерей).
Высокого роста, красивый, Лопухин имел большой успех у женщин и до старости не оставлял волокитства: дамы всегда могли сделать через него многое, зато некрасивая, вечно судившаяся княгиня Е. Р. Дашкова изображает его человеком «Фальшивым, скрытным и мстительным»; другие говорят, что он имел «нрав пылкий, но сердце доброе, быстрое соображение и навык в делах». Он был другом Аракчеева и не ладил с Кутайсовым, которому всецело был обязан, ибо Кутайсов первый указал Государю на А. П. Лопухину. Хитрый эгоист, он умел показать свое великодушие; когда однажды, по его же жалобе, Кутайсова велено было сослать в Сибирь, он на коленях вымолил ему прощение, хорошо зная, конечно, что сиятельный брадобрей, без которого Павел не мог жить, так далеко все равно не уедет, а, вернувшись, может ему повредить. Чтобы застать Государя в хорошем расположении духа, Лопухин ездил во дворец с докладами в 6-м часу утра. Чуждый мелочного высокомерия, всегда более интересовавшийся материальными выгодами, он говорил, что «природа всех на свет равно производит, и титул светлости не просвещает ума, не греет на морозе, не делает светлее темную комнату, а только дает повод думать о нем хуже». Князь И. М. Долгорукий делает меткую ему характеристику: «Эгоист по характеру и чувству, равнодушный к родине, престолу и ближнему, он и добро и зло делал только по встрече, без умысла и намерения; кроме себя, ничего не любить, кроме своего удовольствия, ничем не дорожить, покупая оное всеми средствами, без разбора их качества».
(С портрета Боровиковского; собственность светлейшего князя Н. П. Лопухина-Демидова, м. Корсунь, Киевской губ.)
Прасковья Ивановна Лопухина
 П.И. Лопухина, 175… —178…, первая жена генерал-майора, впоследствии действительного тайного советника I класса и светлейшего князя Петра Васильевича Лопухина, была дочерью полковника Ивана Фомича Левшина. Мать её, Анна Ивановна Левшина, рожденная княжна Львова, пользовалась большим уважением в обществе и при дворе Павла I. О самой Прасковье Ивановне Ло¬пухиной, матери известной любимицы Императора Павла, княгини Анны Петровны Гагариной, сохранилось очень мало сведений. Выйдя замуж за П. В. Лопухина, она имела от него трех дочерей: Анну (род. 8 Ноября 1777 г.), Екатерину (замужем за Г. П. Демидовым) и Прасковью (р. 1784 г., 25 Апреля 1870 г.; за графом П. И. Кутайсовым). Умерла она рано и не была свидетельницею возвышения своей семьи, благодаря чувству Павла I к её старшей дочери.
П.И. Лопухина, 175… —178…, первая жена генерал-майора, впоследствии действительного тайного советника I класса и светлейшего князя Петра Васильевича Лопухина, была дочерью полковника Ивана Фомича Левшина. Мать её, Анна Ивановна Левшина, рожденная княжна Львова, пользовалась большим уважением в обществе и при дворе Павла I. О самой Прасковье Ивановне Ло¬пухиной, матери известной любимицы Императора Павла, княгини Анны Петровны Гагариной, сохранилось очень мало сведений. Выйдя замуж за П. В. Лопухина, она имела от него трех дочерей: Анну (род. 8 Ноября 1777 г.), Екатерину (замужем за Г. П. Демидовым) и Прасковью (р. 1784 г., 25 Апреля 1870 г.; за графом П. И. Кутайсовым). Умерла она рано и не была свидетельницею возвышения своей семьи, благодаря чувству Павла I к её старшей дочери.
По свидетельству князя И. М. Долгорукова, автора «Капища моего сердца» Прасковья Ивановна Лопухина «была милая и пригожая женщина». Познакомившись с нею в Твери, где муж её был губернатором в 1783 г., Долгоруков влюбился в хозяйку, которой было «с небольшим 20 лет», просрочил отпуск, забыл про дела и хотя после никогда уже не встречался с нею, но, узнав о её смерти, «искренно тужил о ней и вспоминал приятные те часы и слишком краткие, кои проводил с нею».
(С портрета Боровиковского; собственность светлейшего князя Н. П. Лопухина-Демидова; м. Корсунь, Киевской губ.)
Лопухина Анна Петровна
 Княгиня А.П. Гагарина (урожденная Лопухина), 1777—1805, дочь сенатора Петра Васильевича Лопухина и первой его жены, Прасковьи Ивановны Левшиной, родилась 8 Ноября 1777 г. В детстве лишившись матери, она воспитывалась под наблюдением мачехи, Екатерины Николаевны, рожденной Шетневой, женщины малообразованной и далеко не безукоризненной репутации. Не будучи в строгом смысле красавицей, небольшого роста и не грациозная, Анна Петровна Лопухина имела очаровательную головку, с огненными черными глазами, черные как смоль волосы и брови, прелестный рот и ослепительной белизны зубы, и чрезвычайно мягкое и доброе выражение лица; немного портил ее только неправильной формы нос. Появление ее в 1797 г. на торжествах в Москве, по случаю коронации Императора Павла, сопровождалось большим успехом и остановило на ней внимание Государя. Этим не замедлила воспользоваться придворная партия, которая, с Кутайсовым во главе, преследуя личные выгоды, стремилась отдалить Императора от фрейлины Нелидовой и ослабить влияние Императрицы. Государю шепнули, что молодая Лопухина „потеряла от него голову, и это усилило, произведенное ею на него впечатление. Возник вопрос о приглашении семейства Лопухиных в Петербург, и Кутайсов взял на себя роль «негоциатора» в этом деле. Переговоры его с отцом и мачехою Анны Петровны привели к желаемому результату и, несмотря на противодействие Императрицы Mapии Федоровны, Лопухины переселились в 1798 г. в Петербург, и все семейство было щедро осыпано царскими милостями. Анна Петровна назначена была камер-фрейлиной, мачеха ее была пожалована в статс-дамы, а отец назначен генерал-прокурором, членом Государственного Совета и возведен 19 Января 1799 г. в княжеское достоинство со всем нисходящим потомством, а 22 февраля получил титул светлости и герб с девизом ,,благодать“ (русский перевод еврейского слова «Анна»). Должность камер-фрейлины обязывала Анну Петровну постоянно находиться в свите Императрицы и сопровождать царскую фамилию во все загородные резиденции, где ей отводилось особое помещение. Благодаря этому, император мог видеться с нею ежедневно. Анна Петровна не только не разделяла его чувств, но даже решилась объявить ему, что она давно уже любит князя Павла Гавриловича Гагарина. В порыве рыцарского великодушия император тотчас же вызвал его из Италии, где он состоял в чине майора при армии Суворова, произвел его в генерал адъютанты и дал свое согласие на брак с Лопухиной. Свадьба, однако, долго откладывалась и состоялась лишь 8 Февраля 1800 г., в присутствии императора и всего двора. Чувства императора к княгине Гагариной не изменились и после ее замужества, и это давало повод к постоянным сценам и ссорам между ними.
Княгиня А.П. Гагарина (урожденная Лопухина), 1777—1805, дочь сенатора Петра Васильевича Лопухина и первой его жены, Прасковьи Ивановны Левшиной, родилась 8 Ноября 1777 г. В детстве лишившись матери, она воспитывалась под наблюдением мачехи, Екатерины Николаевны, рожденной Шетневой, женщины малообразованной и далеко не безукоризненной репутации. Не будучи в строгом смысле красавицей, небольшого роста и не грациозная, Анна Петровна Лопухина имела очаровательную головку, с огненными черными глазами, черные как смоль волосы и брови, прелестный рот и ослепительной белизны зубы, и чрезвычайно мягкое и доброе выражение лица; немного портил ее только неправильной формы нос. Появление ее в 1797 г. на торжествах в Москве, по случаю коронации Императора Павла, сопровождалось большим успехом и остановило на ней внимание Государя. Этим не замедлила воспользоваться придворная партия, которая, с Кутайсовым во главе, преследуя личные выгоды, стремилась отдалить Императора от фрейлины Нелидовой и ослабить влияние Императрицы. Государю шепнули, что молодая Лопухина „потеряла от него голову, и это усилило, произведенное ею на него впечатление. Возник вопрос о приглашении семейства Лопухиных в Петербург, и Кутайсов взял на себя роль «негоциатора» в этом деле. Переговоры его с отцом и мачехою Анны Петровны привели к желаемому результату и, несмотря на противодействие Императрицы Mapии Федоровны, Лопухины переселились в 1798 г. в Петербург, и все семейство было щедро осыпано царскими милостями. Анна Петровна назначена была камер-фрейлиной, мачеха ее была пожалована в статс-дамы, а отец назначен генерал-прокурором, членом Государственного Совета и возведен 19 Января 1799 г. в княжеское достоинство со всем нисходящим потомством, а 22 февраля получил титул светлости и герб с девизом ,,благодать“ (русский перевод еврейского слова «Анна»). Должность камер-фрейлины обязывала Анну Петровну постоянно находиться в свите Императрицы и сопровождать царскую фамилию во все загородные резиденции, где ей отводилось особое помещение. Благодаря этому, император мог видеться с нею ежедневно. Анна Петровна не только не разделяла его чувств, но даже решилась объявить ему, что она давно уже любит князя Павла Гавриловича Гагарина. В порыве рыцарского великодушия император тотчас же вызвал его из Италии, где он состоял в чине майора при армии Суворова, произвел его в генерал адъютанты и дал свое согласие на брак с Лопухиной. Свадьба, однако, долго откладывалась и состоялась лишь 8 Февраля 1800 г., в присутствии императора и всего двора. Чувства императора к княгине Гагариной не изменились и после ее замужества, и это давало повод к постоянным сценам и ссорам между ними.
До самой своей смерти Павел не изменил своей страсти к княгине Гагариной; был искренне привязан к ней, считал ее единственным своим другом и отдыхал у нее от занятий и волновавших его треволнений. Именем ее назывались корабли; это же имя красовалось на знаменах гвардии. 25 лет от роду княгиня Гагарина была уже статс-дамой и кавалерственной дамой ордена Св. Великомученицы Екатерины I класса и ордена Св. Иоанна Иерусалимского, который до нее имела лишь одна женщина, графиня Литта, рожденная Энгельгардт.
Замечательный такт и скромность, никогда ее не покидавшие, несомненно облегчили княгине Гагариной ее трудное положение в свете и при дворе. Княгиня Гагарина, рожденная, как кажется, более для тихой семейной жизни, всегда старалась держаться в стороне от придворных интриг. Влияние ее на императора сказывалось лишь в раздаче почестей и наград и представительстве за впадавших в немилость лиц; но и тут, не обладая ни достаточным умом, ни образованием, она действовала не убеждением, а прибегала к чисто детским уловкам, плакала и дулась, пока не достигала желаемого.
По воцарении Александра I, князь П.Г. Гагарин был назначен посланником при дворе короля Сардинского, и княгиня Анна Петровна последовала за мужем в Италию, где они пробыли два года. 25 Апреля 1805 г. княгиня Гагарина скончалась от чахотки, после родов, всего 28 лет от роду. Тело ее было предано земле в Петербурге, в Лазаревой церкви Александро-Невской лавры.
(С миниатюры, принадлежащей Ф.А. Головину, Москва)
А.Н. Греч «Введенское»
За Уборами — Иславское, бывшее имение Архаровых; здесь дом сгорел; остался только парк по берегу Москвы-реки да кое-какие сохранились старинные службы. Еще выше — Успенское Морозовых с домом в виде замка, как в Усове или Подушкине. По-видимому, это не случайное явление, а определенный стиль. Эта модернистическая архитектура связана с художественными запросами нового, передового купечества, начавшего сосредоточивать в своих руках дворянские земли и даже воздействовавшего на вкусы представителей высшего общества. Но и дворянское искусство в свою очередь влияло на буржуазию, будучи нередко источником для подражания. И не случайно строят Пыльцовы дом в Любвине, напоминающий Елисаветинский павильон в Покровском-Стрешневе, не случайно возникают палладианские «Липки» Алексеевых, ряд дач и особняков неоклассического стиля на Каменном острове под Петербургом и такие же виллы в Крыму. Вот почему неудивительно, что рядом с Успенским в другой усадьбе Морозовых стоит незадолго до войны построенный дом с колоннами, хорошо подделанный под «классическое» дворянское гнездо. В Аксиньине усадьбы нет. Здесь сохранилась только большая двухэтажная церковь XVII века.
Неподалеку начинается уже холмистая местность, пересеченная оврагами, поросшими кустарником. Прихотливо извиваясь, течет навстречу река в широкой долине. И на далеком просторе, по берегам ее, на обрывах, одетых лесом, снова белеют помещичьи дома и старинные храмы — Поречье, Введенское, живописно разбросанные дома Звенигорода, собор на Городке, колокольни и башни Саввина монастыря.
Поречье как-то видно отовсюду — длинный двухэтажный дом, украшенный посредине колонным портиком под треугольным фронтоном, как всегда. Он кажется нарядным издали; верно, потому, что белой лентой красиво оттеняет он крутой берег реки, где в лес давно превратился уже одичавший парк. Вблизи же скучными и монотонными кажутся длинные крылья дома, неудачными представляются пропорции колонн. Точно строил здесь малоумелый провинциальный зодчий начала XIX века.
Отделки и росписи сохранились внутри только на лестнице; здесь колонны и пилястры несут арки, поддерживающие потолок; ступеньки двумя маршами торжественно ведут на площадку, где, слившись в один, — приводят они к дверям залы. Куда-то исчезла вся мебель — в одной лишь комнате лежат груды обломков, в которых можно узнать остовы кресел и столов красного дерева и карельской березы, дверцы шкафов, ящики комодов, спинки диванов. Мебельный хлам этот брошен. Он никому не нужен. Ежегодно сменяются в Поречье хозяева — и, думается, недолго, верно, простоит этот белый барский дом, видимый отовсюду, и с колокольни Саввина монастыря, и с Городка, и с шоссейной дороги на Вязёмы.
Есть места, овеянные поэтическими воспоминаниями. Есть места, попав в которые, сразу вполне ясно представляется та почва, на которой произрастали побеги неумирающего искусства. Что-то значительное и глубокое, связанное с русской культурой, родилось или развивалось в Введенском. Ведь здесь бывали и жили Чайковский, Чехов и многие художники еще недавнего прошлого. На высоком пригорке дом. По крутому откосу, обрамленному деревьями парка, спадает затененная просека. Стены и колонны дома, полускрытые пригорком — в прозрачных розовых отсветах последних догорающих солнечных лучей. Ярко пламенеют в еще светлом небе облака. Огнями блещут стекла в окнах, точно в доме праздник или, может быть, пожар? И, стоя внизу перед этой картиной, вдруг вспоминаются холсты Борисова-Мусатова. Ведь именно этот дом в Введенском излюбленным мотивом проходит в его живописных образах. Именно Введенское — декорация для мусатовских девушек, нереальных, призрачных, как марево.
Из окна второго этажа обратный вид — зеленые кроны деревьев, блеснувшая отраженным световым облаком заводь старого русла реки, лес в туманной сизой дымке, горящие золоченые купола и белеющие башни Саввина монастыря, а в небе уходящие дождевые тучи. Этот вид в обрамлении капителей коринфских колонн — не что иное, как «Окно» М.В.Якунчиковой.
А мотивы деревенской околицы, освещенной последними догорающими лучами солнца, унылые под серым дождем лесные вырубки — разве это не темы левитановских картин, написанных именно здесь, в Звенигородском уезде. Многое можно даже узнать — морозов-ский дом в Успенском, в тумане моросящего дождя, или холмистую местность около монастырского скита. Звенигород и его окрестности — не только Швейцария и Америка, как окрестили их туристы, но также русский Барбизон. И на смену Левитану, Мусатову, Якунчиковой приходят Шиллинговский и Крымов. Так красочна и вдохновенна здесь природа, так сильно тут притяжение старого, отжившего, но все еще прекрасного искусства.
Введенское как-то никогда долго не держалось в одних руках. Оно было выстроено в XVIII веке отцом фаворитки Павла I, [кн.] П.В.Лопухиным. Усадьба была отстроена хотя частично и в дереве, но с дворцовым размахом, как это и приличествовало настоящему магнату. Старый дом был деревянный — его не так давно сломали, и на его месте последний владелец Введенского, граф Гудович, возвел почти такой же — каменный. На двор выходит фасад с лоджией; перед ней терраса, образуемая полукругом колонн. Две низкие галерейки приводят к флигелям — старым, неперестраивавшимся, в плане образующим букву «Г». Они скромно и изящно, но не совсем одинаково украшены колонными портиками на скошенном углу и лепными панно с изящной орнаментацией конца XVIII века. Перпендикулярно главному дому, охватывая двор, стоят еще каменные павильоны в кустах разросшейся сирени. В них центральные окна обрамляют колонны, а стены разнообразят сочные карнизы и выступы. Cour d’honneur порос травой, в этом — чарующее своеобразие, необходимая патина времени, сблизившая природу и искусство. На обрыв выходит другой фасад дворца в Введенском — с величавым шестиколонным портиком коринфских колонн. С двух сторон вели к нему отлогие пандусы, слегка закругленные, со статуями на постаментах. Торжественным архитектурным аккордом казался этот фасад.
Музей находился в бельэтаже дома; сюда попали мебель, фарфор, картины, бронза из многочисленных усадеб Звенигородского уезда.
Здесь было немного вещей, представлявших в отдельности выдающийся художественный интерес. Но взятые вместе в своем ансамбле гостиной карельской березы или кабинета красного дерева, эти вещи давали стильное наполнение комнатам, превосходно уживаясь в своих новых, музейных, уже не бытовых интерьерах. В своем месте рассказано об этом музее, но не рассказано то ощущение старинной, традиционной, неспешной культурности, о которой свидетельствовали все эти вещи, еще раз, правда ненадолго, собранные вместе. Давно умершие люди, запечатленные на старых портретах, еще раз сошлись в залах и гостиных дома в Введенском.
Рука художника создала не только главный дом. Она коснулась и других построек усадьбы. Здание хозяйственного двора с портиком ионических колонн соответствовало все тому же широкому размаху. И по стилю своему, и по времени постройки Введенского очень близки к постройкам Петровского. Точно работали и здесь и там по проектам одного и того же неизвестного, скорее всего петербургского мастера. Может быть, это был Кваренги. Есть что-то роднящее дома в Петровском и Введенском с Английским дворцом в Петергофе.
В церкви старой лопухинской усадьбы — типично классической, но еще не ампирной, с круглящимися углами, колонными портиками и круглой, колоннами же обведенной колокольней — звучат отклики архитектуры Старова или даже скорее Львова. Несколько наивен в ней шпиль, завершающий колокольню, напоминающий протестантские кирки и уже издали видимый на подступах к усадьбе, в которую ведет со стороны шоссе прямая, по оси дома ориентированная въездная дорога-аллея. В парке, преимущественно липовом, английском, по-видимому, не было никаких «затей» — или не уцелели они, если не считать только маленькой оранжерейки, украшенной по фасаду полуколонками с египетскими капителями пальмовидного характера. Египетский мотив этот в какой-то пропорции свойствен вообще классической архитектуре и в частности ампиру. И вспоминаются египетские темы и мотивы в архитектурных фантазиях Пиранези, в альбомных композициях Т. де Томона, а также некоторые «египетские» сооружения в усадьбах — домик и оранжерейный зал в Кузьминках, столовая в Архангельском, пристань в Ахтырке.
Теперь в Введенском совпартшкола. На дворе перед домом, вместо прежнего луга, разбиты цветники и трава кругом подстрижена. А при входе надпись «Вход воспрещается». Может быть, она сохранилась здесь от дореволюционного времени? Только твердый знак отсутствует в ней. А впрочем, усадьба, несмотря на эту отгороженность одной своей части, — проходной двор теперь. В нее врезалась Звенигородская ветка, и рядом с церковью выросла станция. А еще в 1923 году здесь было совсем тихо и лежали на лугу копны сена.
В 1916 году на посмертной выставке Мусатова в небольших комнатах салона Лемерсье 14 на многих холстах в тумане утренних зорь и в отблесках закатов выступали среди деревьев парка белые дома с колоннами — Зубриловка и Введенское. В 1905 году прелюдия разрухи в последний раз осветила Зубриловку зловещим заревом пожара. А четверть века спустя из Введенского были изгнаны последние поэтические звуки и образы…
…Вечерами горела лампада перед иконой над аркой ворот. С высокой колокольни в отмеренные интервалы били часы колокольным звоном. Разносились звуки по реке — и снова тихо текла ночь. Так было много сотен лет. Вместо деревянного собора появился каменный XVI века, с перспективными порталами и чудесными фресками внутри, вместо первоначального тына — белые стены с башнями, со святыми воротами под орлом. Другие храмы, барочная, в несколько ярусов колокольня, кельи, дворец для остановок царя Алексея заполнили монастырь внутри, где по обету, по завещанию находили место своего вечного успокоения бояре и окрестные помещики. Царские портреты, кресло Алексея Михайловича, обитое чудесной парадной тканью, иконы, дорогая утварь вкладов, шитье и книги наполняли церковь и ризницу монастыря. «Дивный» колокол ударял к вечерне и обедне — и каждый набожно крестился, услышав призыв к молитве, такой торжественный и величавый. Колокол славословил небо. А потом, после 1917 года, как в далекую старину, был арестован колокол на несколько лет — слишком волнующим казался его голос. Тогда в эти годы разместился в монастыре музей из Введенского, пополнившийся монастырскими вещами — церковной стариной, планами и чертежами, старинным оружием, палатой XVII века и домовой церковью с прелестным иконостасом. Кругом же сутолока и шум московских бульваров и улиц, привезенные домом отдыха, полуголые тела московских папуасов, пошлые речи с эстрады, как и однодневные карикатуры на заборах. И еще одно воплощение. В [нрзб.] привезенные сюда беспризорные, вакханалия безумств малолетних преступников, разбивших и разрушивших все что можно, начиная от стекол, кончая могилами кладбищ. Шутовской крестный ход, насилия, даже убийства. Но зато не осталось в Москве к 10-й годовщине 1917 года больше беспризорных. Отсюда путь их в Николо-Угрешу, а потом в [Соловки] — своеобразное паломничество по русским святыням! И снова дом отдыха, снова музей, правда, урезанный. И только ночью, когда все стихает, струятся из архитектуры какие-то иные, старые флюиды. Как прежде, как всегда, опадают лепестки цветущих яблонь, неумолчно стрекочут кузнечики, отбивают четки времени безразличные башенные часы.
Введенское, как и Поречье, видно отовсюду. С колокольни Саввина монастыря притягивает оно взоры своим белым пятном, прерывающим на горизонте кромку леса. В другой пролет звона видно Поречье. А за монастырской слободкой на берегу реки луга и леса, там позади Озерня, имение Голицыных, с парком, разбитым среди многочисленных водоемов. На западе и на севере — Кораллово, Ершово, Сватово. Их не видно. Их присутствие только угадывается. К живописному уездному городку, весной благоухающему сиренью, тянутся эти, здесь так щедро рассыпанные усадьбы, связанные общим духом,
общим бытом и общей красотой. С колокольни вид на много верст кругом. Расстояние скрадывает детали, разрушений не видно — все точно осталось по-прежнему и не изменился ландшафт. Да, после 1917 года русскую усадьбу следует смотреть на расстоянии. А после 1930 года — не одними ли только глазами памяти?
Усадебный парк
Введенское. Усадьба создана на рубеже XVIII и XIX вв. по заказу князя П. В. Лопухина по проекту архитектора Н. А. Львова. С середины 1860 по 1884 г. усадьба принадлежала отцу художницы М. В. Якунчиковой. Сохранился жилой комплекс, в котором в настоящее время помещается дом отдыха. Хорошо сохранился парк с центральной осевой планировкой. К партеру ведет березовая аллея. Партер с фонтаном и изгородью из стриженого кизильника блестящего. Туя западная образует параллельные ряды в партере. Перед фронтоном здания и сзади него — ряд ели колючей и ее голубой формы. По обеим сторонам партера — группа старых экземпляров сибирской лиственницы, клена ясенелистного и серебристого, гордовины канадской, чубушника девичьего, татарской жимолости, розы сизой и сирени венгерской. Лесопарковая часть постепенно переходит в смешанный лес по крутому склону к р. Нахабне. В создании лесопарка участвуют: клен полевой, клен остролистный, дуб, липа, вяз, ель и сосна. В подлеске— крушина, малина и бересклет. Местных видов в парке 12, янтродуцированных — 16. Уход за парком удовлетворительный, состояние насаждений хорошее. В качестве маточников для сбора семян в парке можно использовать такие обильно плодоносящие растения, как клен серебристый и гордовину канадскую. Рекомендуется сохранить существующую планировку и имеющийся ассортимент.
Источник:
М.С. Александрова, П.И. Лапин, И.П. Петрова и др. Древесные растения парков Подмосковья, М., 1997
Проживание
Забронировать номер в усадьбе Введенское (санаторий «Звенигород»)